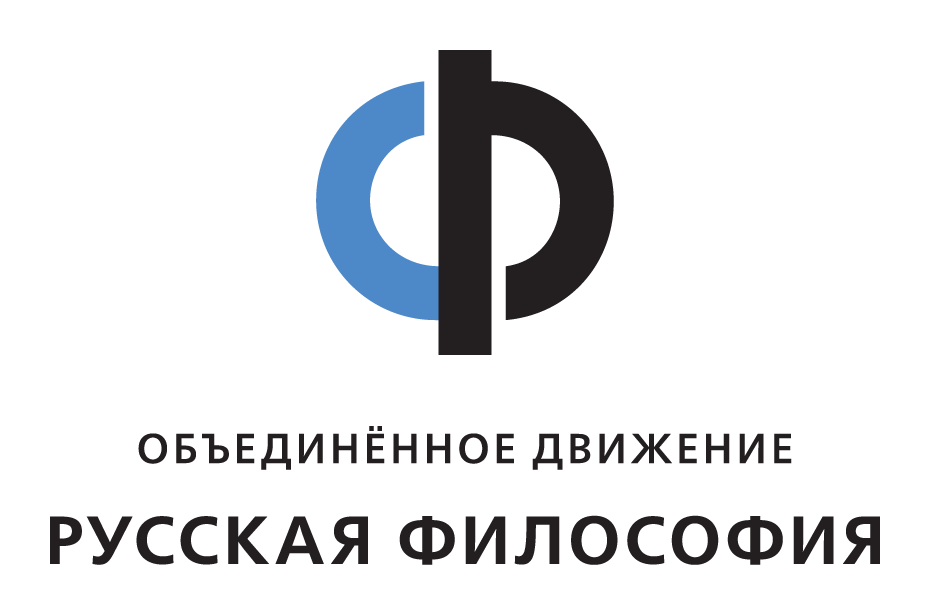Еще недавно казалось, что мы все находимся в уютном тупике, тупике капиталистических следствий, бытийствующих по принципу онтологии, и все в нашем, то есть цивилизованном, мире делали хорошую мину в уже достаточно дурно срежиссированном и сыгранном спектакле. И все вроде бы было понятно: правила игры, прописаны, места куплены, актеры подкормлены. Однако начали наступать новые времена. Эпоха ковида продлилась недолго, играя все по правилам постмодерна. Но помимо очевидных потерь мы обнаружили смерть, одиночество, ненависть, институции, правила, потеряли любовь. Еще более новые времена настали уже тогда, когда еще не утрамбовались следствия преподносимой катастрофы. Оказалось, что у постмодерна все-таки есть конец, оказалось, что есть материя и Дух, которые уже не в состоянии постмодерн выносить. Словно травинка через асфальт, проявилась тяга к великим нарративам, и наступила эпоха метамодерна. Еще более непонятная и запутанная, но одновременно более ясная и прямолинейная. Мир проявился, проявился как в своих стратегиях, так и в тактиках. Более того, многовековые системы, успешно функционирующие в эпоху постмодернизма, дали сбой. Социальная действительность – всего лишь массивное скопище нейронов, успешно поддающихся манипуляциям. Ставки сделаны, ставок больше не будет. И область гуманитаристики сотрясается в наши дни то ли истерическим плачем по ничему, то ли от звучащих бомб, то ли мучаясь в родах чего-то поистине нового. Постмодернизм с его усмешкой в своем последнем припадке рождает-таки что-то емкое, вечное, настоящее, древнегреческое.
Быть может, сейчас как раз время поговорить о том, о чем неприлично было говорить последние почти сто лет. О нравственности, чести, любви, предательстве, войне, преданности. Все эти и прочие понятия, съеденные капитализмом и постмодерном, заявляют снова право на жизнь. Однако капитализм никто не отменял и отменить не в силах, поэтому есть смысл поговорить о наступившей новой эпохе метамодернизма, где множественность, ризоматичность и антропологизация сосуществуют с классическими красивыми понятиями. Как нам с этим жить и кем быть – на эти и прочие животрепещущие вопросы я постараюсь ответить в своем докладе. Итак, я считаю, что необходимо совершить для начала краткую ретроспективу того места, где мы оказались.
Я считаю, что мы относимся к западноевропейской культуре, но с учетом некоторых особенностей. Западноевропейская культура к ХХ веку пришла к кризису гуманизма через смерть Бога. Что мы подразумеваем под гуманизмом? В первую очередь, безусловно, это широкое понятие, направление, понимающее человека и человеческое общество в принципе как наивысшую ценность, в данном случае мы будем рассматривать гуманизм как идеологию, имеющую в виду идеального субъекта вообще. Гуманизм выделяет среди прочих видов человека, ставя его интересы выше всех прочих, оправданием данной привилегии является признание того, что человек обладает разумом. На протяжении сотен лет европейская культура, начиная с эпохи Ренессанса и достигая пика в своих основаниях к эпохе Нового времени, формируется за счет акцента на гуманизме, который с необходимостью формируется в лоне отторжения от церкви и от Бога в частности, и смерть Бога является точкой бифуркации европейской мысли эпохи Просвещения. Почему?
Начнем с того, что уже в XV веке, несмотря на то, что давление церкви как институции было очевидно, особенно среди, так скажем, небогатых слоев европейского населения, – уже тогда прорывались возгласы о необходимости обожения человека, и в XV веке пишет Джованни Пико делла Мирандола такие слова: "Нет ничего более замечательного, чем человек. Человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим и господин над низшими. Люди могут и должны стать богами. Мы, ставшие философами, постигнем тайны Бога, и мы, полные божеством, станем тем, кто нас создал". Достаточно серьезные заявления. Возможно, это опять же следствие того, что религия, которая довлела так или иначе в виде институции, подразумевала это лицемерие уже изначально в своих основах. Не буду полностью приводить цитату Лосева, который, собственно, описывает те времена, но можно выразить емко, что духовенство, высшие чины, да и вообще большинство людей жили не по правде. Это то, о чем Ницше будет потом кричать в "Веселой науке" и "Так говорил Заратустра". Христианство подразумевает такой образ жизни и мысли, который несоизмерим и невозможен в плане естественного бытийствования, и в этом плане намечается очень серьезный разрыв между идеей и собственно ее реализацией. Более того, идеей или институцией, которая довлеет над обществом и которая устанавливает правила. Уже в XV веке Лютер, несмотря на то, что он был ярым реформатором католической церкви, он выступает за секуляризацию государства. Это немножко поразительно. И вообще, мыслители и ученые эпохи Ренессанса обнаружили своеобразную амбивалентность, как будто человеческая тяга познания соседствовала у них со страхом окончательно потерять почву под ногами, которая представлялась им верой в христианского Бога.
На рубеже XV–XVI веков Николай Коперник с гипотезой о гелиоцентрической системе наносит удар по религиозным убеждениям. Земля не центр Вселенной, она вместе с другими планетами вертится вокруг Солнца. При этом Коперник был убежден в божественном происхождении науки и своей гипотезы в частности, он считал ее скорее божественной, чем человеческой. Но это тоже постепенное развитие гуманистических идеалов в противовес божественным институциям. В попытке реанимировать религию как таковую в ее связи с рациональным познанием Ньютон пишет трактат "Философские основы языческого богословия" и в этом трактате высказывает достаточно поразительные идеи.
Во-первых, в этом есть определенное сходство с ницшеанским воззрением в будущем. Он считал, что христианство извратило проторелигиозность, в частности искусственно всадив триединство Бога. Церковь в его интерпретации являлась не посредником между человеком и Богом, а развращенной основополагающие отношения институцией. Далее необходимо, совершая краткую перспективу, обозначить безусловно серьезную точку бифуркации – это картезианская cogito ergo sum, где понятно, что он тоже вписывает Божественное в это, но тем не менее точкой отсчета является сам человек, точнее его сознание и мышление. Очень важным условием для возникновения картезианского мировоззрения является поворот в отношении к истине. У европейцев складывалась новая концепция истины – истина не может быть абсолютной, поскольку новые открытия всегда будут приходить на место старых, истина должна иметь объективное выражение, проверяться практикой. Целесообразной аллегорией на это время можно назвать Робинзона Крузо. Робинзон Крузо – нейтральный субъект, универсальный субъект, носитель как раз вот этих гуманистических ценностей, способностей, идеалов, оказываясь в чужой, дикой, туземной среде, с помощью своих знаний воссоздает мир, тем самым тоже становится подобным Богу. Это серьезный шаг, тоже возможность человека обрести божественные атрибуты. Он создает вокруг себя мир на базе своих знаний, и для того, чтобы акцентировать его величие до человека вообще, появляется собственно фигура Туземца, который опять же, согласно классическим европейским представлениям о дихотомии Запада и Востока, способен к научению правильному мышлению, правильному взгляду на себя, на окружающую среду, которую мы обязаны возделывать. Тут тоже четко проглядывается дихотомия культуры и природы, которая, с точки зрения поздних, сегодняшних авторов, является такой же сконструированной, как и многие прочие фигуры. Природа и культура разделяются на два лагеря, и вопреки ожиданиям культура держит победу над диким, bios торжествует над zoo. В конце XVIII века Европа была взбудоражена политической ситуацией, которая сложилась из-за кризиса норм и устоев, насаждающихся властью церкви. Происходит Великая Французская революция, и Руссо как певец Революции (такой титул он получил посмертно) говорит о том, что "человек рождается свободным, но повсюду он в оковах" – опять же это черта гуманистического мировоззрения, где человек является мерилом всех вещей.
В то же время в философии совершается концептуальный поворот к философской антропологии, и Кант ставит главным вопросом философии, наряду с прочими тремя, вопрос, что такое человек. Через этот вопрос, считает он, разворачивается все возможное, все понимание мира, которое мы должны так или иначе раскрыть. Просвещение он мыслил как выход человека из состояния собственного несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине, до совершеннолетия мы не способны пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Иначе говоря, Кант считал, что мы обязаны своим разумом, двигая свой разум, развивая его все больше и больше, осваивать мир и опять же через это освоение этот мир и понимается, то есть это предельная замкнутость на человеке. Если Декарт представлял человеческий разум одиноким обитателем мертвой Вселенной, то Кант разорвал связь между человеком и окружающим миром начисто, запирая его в собственной голове. В контексте Гегеля человек тут является очень важным элементом для разворачивания, развертывания самого мирового духа, который в человеке, но не только в человеке, еще через человеческие какие-то общества, через какие-то общности тоже можно разворачивать, тем не менее без человека это движение божественного раскрытия невозможно. Таким образом, здесь людям предлагалось отказаться от прежней концепции трансцедентального Бога и осознать, что человек божественен сам по себе. Безусловно, в этом ключе невозможно не вспомнить Маркса с его отношением к религии в первую очередь, конечно, негативным восприятием в принципе. Религия – это есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого. В общем и целом религиозное или мифологическое сознание Карл Маркс ставит как определенный этап развития человеческого разума. Когда-то нам нужен был этот костыль в виде религии. Сейчас этот этап преодолеваем, и революционное становление разума требует нового подхода к религии, которая в принципе сводится к мифу. Мир не есть наследие Бога, Бог есть наследие мира, человеческого мира. Свобода, равенство и, главное, разум становятся главными ориентирами. Человек в первую очередь понимается как homo rationalis – это то, что отличает эпоху Просвещения. Бог уже не столь близок, ближе идеальный проект человека, который стремительно познает мир уже без оглядки на божественное. Бог измельчал и помещается только лишь в голове человека, и задача человечества – оставить его место только в развертывании истории человеческого. Бог становится мифом. Безусловно, следующий этап, отделение, это дарвинистская концепция происхождения, и он, конечно, не мыслил себя как пророка против религии. Он не мыслил свою концепцию как полностью атеистическую, но тем не менее уставшее от лицемерия общество восприняло ее именно так.
Коперник лишил человека статуса центра Вселенной, Декарт с Кантом отдалили его от материального мира, а теперь Дарвин низводил его до одного уровня с животными, утверждая, что он не является божьим творением, а развивается в ходе эволюции вместе с остальными видами. Места для Бога в этом процессе не оставалось, и мир с его законами джунглей потерял всякое божественное предназначение. Еще более важный акцент – это сборник эссе и интервью, в котором, собственно, с помощью лингвистического анализа, модного в то время, священнослужители пришли к тому, что Пятикнижие Моисея – это новодел и произведение, созданное различными людьми в разные периоды, и возникает новая тенденция прочтения Библии, высший критицизм, начинаются "крестовые походы" против религии. Все это нивелирует значение концептуального христианства в целом, и приходит Ницше, пророк хаоса и пророк конца этой эпохи, и говорит о том, что, в сущности, христианин был только один, и тот умер на кресте. Он провозглашает смерть Бога, и, собственно, это то пространство, где оказывается просвещенное человечество в начале ХХ века. За фиктивностью ценности проглядывает не Бог, а ничто. "Бог мертв", – заключает Ницше. ХХ век хоронит гуманизм, философия постмодерна убивает все великие нарративы: "человек, Бог, автор, культура, природа, мужчина, женщина, Запад, Восток, единое целое".
Возвращаясь к XX веку, как известно, философия приходит к своему тупику, метафизический тупик обнаруживает себя. После событий первой половины ХХ века (все мы знаем про Вторую мировую войну) философия приходит опять же к тому, что, по сути, это крайние точки сильного гуманистического тезиса об идеале человека, который возможен, который существует. Третий рейх это явственно показал. Если мы исходим из какой-то идеи человека вообще, то сразу же мы выстраиваемся и попадаем в иерархию, где есть какой-то более идеальный человек, какой-то менее идеальный человек, относительно нужных каких-то свойств и прочие не носители нужных свойств. Все это нивелирует гуманистическую направленность на человека, и в 1946 году Хайдеггер, анализируя, где мы оказались, будучи сам, наверное, тоже участником развертывания этого дискурса, приходит к тому, что гуманизм мертв, старый гуманизм не работает, нужен новый. 1960-е и 1970-е годы – это собственно эпоха постмодерна, в первую очередь отчет антигуманистов начинается с того, что сама фигура человека – это концепт, это нагруженный исторический концепт, созданный концепт, как заключает Фуко, которому тоже пришел конец. Соответственно, все эти нарративы, великие нарративы: Бог, человек, мужчина в том числе – показали свою нежизнеспособность в этих обстоятельствах, и мы оказались в пространстве постмодернизма, где множество интерпретаций заменяют истину, которой, как оказалось, тоже нет.
Переместимся опять же в нашу эпоху – эпоха ковида явственно показала процесс постмодернистского измельчения, который достиг своего предела, хотя казалось, что постмодерну предела никакого нет, так же как и нет конца. Различия достигли упора: каждый сам по себе, социальность оказалась раздробленной, все связи рвутся, и утолщается исключительно виртуальное. Ковид уменьшил нас до минимума, и в ситуации максимальной раздробленности возникает вопрос, что же нас действительно объединяет. Вряд ли виртуальность. В этом плане очень хорошо показывают ситуацию, где мы оказались, мысли о схождении различных языков, интерпретации, деконструкция истины продолжающаяся, гендерная философия. Кажется, что это точка смыкания в контексте современности, которая задает или ее задают как основную какую-то линию, либо она задается, но это не так важно. Важно то, что через гендерную философию очень ясно проглядывают как раз два полярных подхода к реальности вообще. Соответственно, эпоха классических нарративов диктует нам, что есть только биологический пол, социальное не так важно, или является следствием опять-таки двоичной раскадровки, соответственно, такая точка зрения, которая отвергает все следствия эпохи постмодерна, последние шестьдесят лет, феминизма последней волны и т. д. Что есть два пола, и это, собственно, то, что исчерпывается, а остальное является искусственным нагромождением. В современной реальности вообще гуманитаристика в целом пришла к тому, что помимо биологического пола есть социальные конструкты, которые задаются нами, и мы можем задавать. В этом плане – сколько людей, столько и гендеров, и в этом плане – это точка смыкания двух полярных мнений о реальности вообще. Но тем не менее есть определенное ощущение (я думаю, у большинства людей), что мы утонули в этих интерпретациях, и назрела необходимость опять, спустя почти сто лет, в великих нарративах. Это как раз те понятия, которые успешно были похоронены в ХХ веке: честь, совесть, истина, любовь и т. д. Однако это все так или иначе рождается в постмодернистском бульоне, и это позволяет нам заключить, что мы все-таки находимся в мета модернизме.
Какие черты метамодернизма выделяются? Это возвращение к искренности, внимание к традициям, единство в колебаниях, в тех интерпретациях, которые задаются постмодернистским типом восприятия реальности. Также можно добавить, очевидно, что в эпохе метамодерна происходит возврат к старым способам захвата дискурса. Если опять же ХХ век – это век языка, интерпретации, постиронии и т. д. Дискурс – это то, что по типу раковой опухоли дает метастазы в языке и виртуальности, относительно нашей эпохи можно сказать, что происходит возврат к старым типам захвата, а именно территория, земля и т. д. То, что, казалось, уже давно поделено, и те типы захвата которые, казалось, уже давно канули в Лету.
Однако это показывает, что эти стратегии жизнеспособны, почему и как – это другие вопросы, но факт остается фактом. Мы оказались в этом пространстве, и что же нам делать? Стоит вопрос – может ли русская идея восполнить эту нехватку смысла? Может ли русская идея стать тем самым великим нарративом, которые мы давно похоронили? Для этого, я считаю, ей нужно самой иметь противоположные той реальности черты, той шизофренической, ризоматической множественности, в которой мы так или иначе варимся. А именно – быть не раздробленной, быть единой и четкой в своей структуре, во вторую очередь понятно, что весь ХХ век и вообще пространство, где мы оказались, как я показала в самом начале – это пространство уже выжженной религиозности, где, по правде, говорить о Боге уже просто неприлично. Отталкиваясь от противоположного, можно заключить, что, вероятно, новая русская идея или старая новая русская идея должна быть так или иначе религиозной, она должна включать божественное, только на других правах и не включая в эту игру институции, которые показали себя нежизнеспособными в борьбе за смыслы. Эта идея должна быть ясной, она не должна иметь потайных ходов, каких-то лицемерных складок, выборочности и т. д. Эта идея должна быть ясно и четко выражена в своих емких, но простых тезисах. Идея должна быть открытой, поскольку опять же эти все вехи предыдущих эпох, которые я показала, они маркируют элитарность дискурса, элитарность тех направлений, в том числе философии, которые занимались либо разработкой, либо анализом идей, смыслов в реальности. Опять же, отталкиваясь от этих характеристик, можно прийти к тому, что идея должна быть открытой, она должна быть ясной каждому, она должна не содержать в себе каких-то подводных камней и, безусловно, опять же, отталкиваясь от реальности, в которой мы существуем, которая показывает, умирая, что ей нужны какие-то новые течения, новые вкрапления, фундаментальные, как я сказала, великие нарративы. Она требует этого. Язык и действие должны быть неразрывны, то есть это не просто болтология, не просто слова на ветер или какие-то игры академические, или околофилософские, или какие угодно. Язык должен быть неразрывно связан с действием, и, если все эти условия будут соблюдены, я считаю, что русская идея может тогда претендовать на новый Великий нарратив, по которому так тоскует наша сегодняшняя действительность.